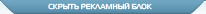Реклама
Популярное
Наши партнеры
Авторизация
Реклама
Счетчики
Йа никагда нибыла тваей,
Мы фместе были фф кругу друзей
Ты праважал миня да двирей
Йа гаварила: «ПревеД, МедвеД!»
И вот аднажды Йа панила,
Што бистибя слофна ни жЫла
Кагда ты даришь мне росс букед
Йа гаварю: «ПревеД, МедвеД!»
ПревеД, МедвеД!
ПревеД, МедвеД!
ПревеД, МедвеД! ну где ты был
Ну абними миня скарей!
ПревеД, МедвеД!
ПревеД, МедвеД!
ПревеД, МедвеД! ну где ты был
Ну абними миня скарей!
Все мужыки казлы!
Эта безусловная аксиома, постулат, закон, фундаментальная истина, крепкая как свая, да что уж там, просто таки 33 кита, 3 черепахи и 0.3 слона, на которых держится все существо, естество и существенность. Без этого закона жизни ничего невозможно и невозможно ничего, как невозможно существание без пространства и времени и времени без пространства... Воощем без этого невозможно также как и невозможно без поллитры разобраца в этом гониве. Но не суть...
Итак, посыл дан. Ключевая мысль ясна. Посему, по всем законам жанра, необходимо подкрепить практически, сформулированный, так сказать, закон. Гавно вапрос - фтыкайте!
Мне было тогда годика 4-5. Маленький рост, похлые губки, вечно обосранные штанишки и сморшенная пиписька, о истинном предназначении которой я в те времена даже не догадывался, все это характеризовало во мне малолетнего апездала с оранжевой лопаткой, жаждущего познания мира. И я утолял эту жажду всеми доступными мне средствами и теми степенями свободы, что обеспечивали мне родители.
О носе монаха Дзэнти в Икэноо знал всякий. Этот нос был пяти-шести сун в длину и свисал через губу ниже подбородка, причем толщина его, что у основания, что на кончике, была совершенно одинаковая. Так и болталась у него посреди лица этакая длинная штуковина, похожая на колбасу.
Монаху было за пятьдесят, и всю жизнь, с давних времен пострига и до наших дней, уже удостоенный высокого сана найдодзёгубу[1], он горько скорбел душой из-за этого своего носа. Конечно, даже теперь он притворялся, будто сей предмет беспокоит его весьма мало. И дело было не только в том, что терзаться по поводу носа он полагал неподобающим для священнослужителя, которому надлежит все помыслы свои отдавать грядущему существованию подле будды Амида[2]. Гораздо более беспокоило его, как бы кто-нибудь не догадался, сколь сильно досаждает ему собственный нос. Во время повседневных бесед он больше всего боялся, что разговор зайдет о носах.
Тяготился же своим носом монах по двум причинам.
Когдя я ложился спать...
Каждый раз, когда я в детстве ложился спать, мне казалось, что вместе со мной в комнате появляется некое огромное, прозрачное, но живое существо – у него было очень много длиннющих конечностей, большущая голова и совсем не было тела. Как только родители выключали свет, оно укладывалось в самум углу комнаты, и, подражая мне, пыталось заснуть. Но по каким-то причинам у него это получалось очень плохо. Оно еле слышно ворочалось, ерзало, вертелось, пытаясь поудобней устроить свои длинные, разбросанные по всей комнате, руки и ноги. От этого что-то постоянно поскрипывало в шкафу, хрустело внутри старенького телевизора, шелестело под моей кроватью, еле слышно пощелкивало, шуршало, шоркало, тем самым, наполняя детскую жизнью.
Чего уж там, я его побаивался. Не боялся, а именно побаивался. Я прятался под одеяло и чутко-чутко прислушивался, внюхивался в темноту и тишину комнаты, и довольно пугался любому шуму.
Однажды Семён Михайлович Будённый почувствовал, что заболел. Немедленно вызванный из Кремля личный врач самого товарища Сталина тщательно осмотрел Семёна Михайловича, простукал, прослушал и, наконец, вынес диагноз:
- Воспаление левосторонне-парасимпатического тройничного нерва, осложнённое церебрально-асфиксионным абсцессом…
- Пошёл вон, клизма тилигентская, - ласково сказал ему Семён Михайлович. – Настоящий кавалерист таким не болеет. Ветеринара мне!
Срочно прибывший дивизионный ветеринар заглянул Семёну Михайловичу в зубы, прощупал холку и сказал:
- Сап.
- Вот это другое дело, - удовлетворённо произнёс Семён Михайлович и начал лечиться.
Сказание о тырнетчиках
И настал день.
И светило солнце.
И сломался у меня Тырнет во усадьбе моей.
И сделан был звонок телефонный в новую Тырнет-компанию, чтобы имела я возможность великую на порносайты дрочувать, да хуйню всякую по литресурсам распихивать.
И явились на следующий день во мои палаты три богатыря, красоты несказанной: Андрюха, аки Культурист чахоточный, Серёга, аки Терминатор доморощенный, да Колян, аки Морячек Папай.
И началось дело великое, закипела работа кипучая, да хуями обложено было пол города с крыш крутых.
Затащили они на чердак бухту кабеля да катили ее по мусору, да по говну голубиному, но уебал Коля своею головной костью могучей по балке кровельной и посыпалось на чела всем с балок говно голубиное. И молвил Коля «Йобтваю!», и отвечали ему все «МУДАБЛЯ!».